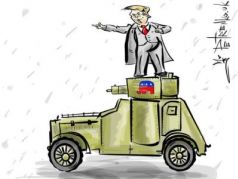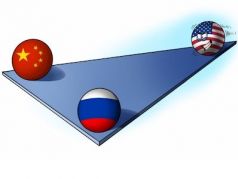Годовщина убийства Алексея Навального для меня не может быть поводом для обстоятельного очерка его жизни и его действий, для этого я слишком мало общался с ним, а интернетные архивы не всегда достоверны и всегда перекошены в ту или иную сторону. Но мне кажется, определенные выводы из его пути я могу сделать. Они лежат на поверхности.
Он хотел быть политиком и стал им, это объясняет почти все его поступки. Ни чистым юристом, ни чистым предпринимателем он не был, поэтому реалии российской обстановки он принимал не полностью, исходил из своих стратегических целей. Отсюда его столкновения (юриста по образованию) с властными обычаями жизни по понятиям, а не по законам, дававшие возможность "пришить" ему абсурдные дела.
Он хотел избираться и быть избранным, отсюда поиски точек соприкосновения с активным большинством общества (как он его себе представлял) и попытки переманить это большинство на свою сторону. Он не был идеологически безупречным, не был доктринером, умел отказываться от путей, поначалу казавшихся ему удачными и верными. Лево-либеральное "Яблоко" оказалось вождистской структурой, где не было места рассуждениям, да и многим принципам, а главное — оно никогда не претендовало на победу, на деятельное участие во власти. Ставка на русский национализм (абстрактно сама по себе не удивительная) не сработала прежде всего из-за расплывчатости самого этого понятия, совмещающего противоположные, по идее, требования национального государства и имперского агрессивного преобладания.
Ставка на борьбу с выборными обманами оказалась проигранной благодаря тому, что всякие выборы считались в России обманными по определению. Не ощущалась необходимость массовому человеку вкладываться в них всем сердцем, все равно ведь начальство сделает все по-своему, да и пропаганда "страшных 90-х" подталкивала к мысли, что не в выборах дело. Оказывалось, что в любом случае после выборов нельзя было "забить" на политику, что за государством глаз да глаз нужен. А кому оно надо — каждый день думать об отвлеченных проблемах? Не случайно и оборона Белого дома в 91-м, и митинги на Болотной в 2012-м не собирали в многомиллионной Москве больше ста тысяч.
Такая данность помогла слабому, ленивому государству подавить выступления на Болотной, ведь именно слабая власть так волнуется за свою сохранность, что готова действовать только силовыми методами даже против тех, кого называет "хомячками". Это я не беру условия, характеры соратников и прочие детали. В основном всё это работало против Навального, но его не остановило. Не остановило и убийство Немцова, и преследования волонтеров "штабов" и просто тех, кто когда-либо донатил самому Навальному. Самый яркий, а возможно — и единственно яркий политик в России, не впадая в самодовольство, шел все дальше.
Наш герой (в любом смысле этих двух слов) выбрал то, что, по его мнению, должно волновать даже равнодушных к политическому обману, к оскорблению гражданского достоинства. Взялся за коррупцию, показывая, сколько миллиардов крадет та самая власть, которой не хватает средств на поддержание бедных людей, на развитие сообществ и территорий. Ну конечно, он должен был понимать, что в грызне кланов его будут использовать. Что абсолютно чистых источников в этой сфере не бывает. А вот понимал ли он, что масштабы воровства давно понятны той массе, к которой он обращается, которая совершенно со стороны смотрит на это, грызя попкорн (тоже уворованный?) безо всякого напряжения? Ярость масс-то никак не вздымалась. Впрочем, он был не революционер, а политик, работал не на активное возмущение, а на репутацию, свою (в плюс) или противника (в минус).
Думаю, понимал. Поэтому его разоблачения были обращены, скорее, не внутрь страны, а к тем контрагентам властных персонажей, которым могло быть важно реноме за рубежом. Но при этом получалось, что, обозначая гниль, всю эту мраморную слизь, он как бы помогает очиститься тому государственному устройству, которое и было главным его врагом. Врагом человека, узурпатором его неотъемлемых прав — задолго до того, как укрощение воров и рационализация госрасходов стали помогать путинской военной авантюре.
До поры властная свора его терпела, отмашки от главного соперника, не желавшего называть Алексея по фамилии, не было — возможно, какие-то тактические соображения, а может, стиль такой — удавий. Сначала зеленкой в глаза брызнем, потом еще очередной абсурдный приговор навесим (за абсурд — отвечаю, все 89 томов его кировского дела изучил, опросил на месте свидетелей еще тогда, более десяти лет назад). Потом намажем "новичком" белье, то-то смеху будет, когда умирать начнет... Фокус еще в том, что они как раз не были политиками, так — мелкие сатрапы в типичном российском стиле. А он был, учился этому в Штатах, затачивал природное стремление быть лидером. И для кого-то стал — вспомним масштабы скорби после его гибели.
Он выжил после потравы и вернулся из забугорной больницы, чего, видимо, от него не ожидали. Психология у его противников другая — шкурная. Алексей Навальный считал, что политик стратегически должен быть рядом с тем народом, к которому напрашивается в руководители. Отсюда и его полунаивные обещания прекрасной России будущего. А с чем еще он должен идти к народу? С комедийным криком "Шеф, все пропало!", с уверенностью в непроходимой гиблости российского болота?
Ну вот, об уроках. Он менялся по своим размышлениям, а не по прямой подсказке бегущих секунд. Но оставлял в своих убеждениях крупицы опыта, формировал моральные ценности. Из "Яблока" вынес веру (надежду, любовь) к демократическим ненасильственным процедурам, прежде всего — к выборам. Из "русских маршей" — ощущение толпы, понимание, что ей нельзя подчиняться, как бы это полезно ни было для поддержания авторитета. Из борьбы за честные выборы — общение с самыми разными своими сторонниками, объединенными поисками справедливости. Признание того, что структура в какие-то мгновения сильнее идеологии. Недаром уже после смерти Алексея чудовищные репрессии обрушились на его "штабы" — за преступления, каковыми объявлены любые самостоятельные политические действия. Вставшие с колен люди получили неоспоримый опыт борьбы с карателями и разочарований в характере родного государства.
А претензии к нему некоторые противники режима даже после его гибели всерьез предъявляют, прежде всего, идеологические. Начетнические. Выхватывая слова из разных интервью, слова в какой-то момент не слишком приличные для оппозиционера, но зачастую сказанные, как про "крымский бутерброд", в результате долгой прямой провокации подсадной чекистской (?) бл*ди и развитые в том же интервью в логичную цепочку (что, естественно, опускается ревнивыми и трусливыми резонерами).
Очевидно, я тоже идеологически зашорен. Потому что меня и "марши" смущали (хотя Алексей дал им внятную оценку потом), и призывы за кого-то голосовать. Да, я понимал, что его целью было приобретение опыта борьбы и разочарований — нет, не себе, а всей той молодежи, которую он привел в политику. Но для меня чистота риз была привлекательной больше, чем создание общероссийской сети сторонников. А у Навального была другая стратегия — политика, который верит в свою победу и считает, что она поможет его стране.
Что до его последних по времени нападок на людей 90-х, то в исполнении оставшихся соратников весь склочно-неряшливый сериал "Предатели" выглядел предательством, прежде всего, демократических идеалов, попыткой теорией заговора объяснить сложные социальные процессы. Которых в том или ином виде было невозможно избежать в стране, возвращавшейся к праву собственности. Ошибка Алексея? Думаю, он бы и ее преодолел. Хотя бы потому, что бесконечно копаться в прошлом — удел не политиков, а тех, кто желает соломки подстелить, кто не способен действовать, а только ищет оправдания своей позиции.
Не бывает плохих или хороших народов, даже после столетней насильственной, убийственной отрицательной селекции, даже после столетий отрицательного исторического опыта. Плохи или хороши — это сценарии, которые ведут страну в будущее, учитывающие в меру своей реалистичности способность народа, населяющего ее (в данном случае — 140 миллионов), меняться и расти. Сценарии могут переписываться до тех пор, пока страна не рассыпалась, не разбежался народ, на языке которого мы говорим и читаем.