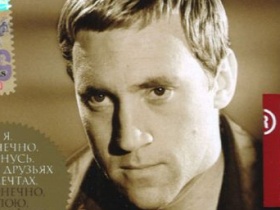На этой неделе телевидение отмечает юбилей Олимпиады-80 и 30 лет со дня смерти Высоцкого. ТВ акцентирует совпадение во времени большого официального проекта и финал жизни неофициального творческого лидера советской эпохи.
Улыбающийся Олимпийский мишка 1980 года контрастирует с жёстким взглядом Владимира Высоцкого. Благообразная печаль прощальной песни Олимпиады, сентиментальные слёзы на закрытии игр — с трагическим хрипом, с яростью и иронией Высоцкого, с его кривенькой усмешечкой в роли Глеба Жеглова.
Насколько изменилось у нас выражение чувств, сам вид и стиль эмоциональности в культурном пространстве.
Закат советского времени тоже нёс в себе существенные перемены по сравнению с предшествующими десятилетиями. Сталинская эпоха озарена не только улыбками ликования, которые тиражирует тогдашняя массовая культура.
Но не менее характерен для того времени нарочито сумрачный взгляд — бдительность, беспощадность, готовность к жертвоприношениям и самопожертвованию воплощены в таком взгляде.
Оба лика эпохи объединяет эстетика демонстративной эмоциональности. Чувства важны не сами по себе, они принадлежат народу, адресованы обществу в своей почти вещной ясности.
Героини Любови Орловой или герои Николая Крючкова словно вручают свою мимику советскому народу — как перевыполненный план, как урожай.
С оттепелью и послеоттепельным временем приходят герои, которые переживают не демонстративно и не доходчиво, потому что делают это для самих себя. Это объединяет культуру официальную и культуру разрешённую.
Юрий Гагарин не мыслим без чистой открытой улыбки. Посредством его улыбки государство словно заявляло свою умытость и отмытость, обновлённость и любовь к человеку. Оно бы хотело, чтобы ему так улыбались по ту и эту сторону железного занавеса.
Но в улыбке Гагарина всегда оставалось нечто, не тождественное рациональным расшифровкам. Потому что Гагарин улыбался не людям, не государству, а разве что космосу, себе и опять же чему-то такому, что не стоит пытаться определить, как не следует расшифровывать "загадку" Джоконды.
От героев Алексея Баталова и до героев Иннокентия Смоктуновского варьируется ненарочитая, сложно переводимая на язык слов мимика. Тени растерянных улыбок Олега Даля и хандрящие улыбки Александра Кайдановского. Очень грустные улыбки Донатаса Баниониса. Смазанные полуулыбки Николая Волкова. Несчастные улыбки вечно плачущих глаз Станислава Любшина. Недобрые улыбки вечно смеющихся глаз Олега Янковского.
Параллельно существовали светлые улыбки и светлые слёзы ТВ и официальной эстрады — Валентина Леонтьева, Валентина Толкунова, Лев Лещенко. От всей души… Носики-курносики… Родительский дом… Душевность и доброта постулировались как общественная норма, хотя в обществе нарастало раздражение всех по поводу всех.
Владимир Высоцкий мог сколько угодно острить, ёрничать, иронизировать в своих песнях и отчасти ролях. Но в том обществе он был прежде всего носителем мощного неприкрытого драматизма — не разбавленного усталостью, бессилием, неуверенностью, бледными улыбками.
Лирический герой Высоцкого всегда знал, как жить и как умереть. И умереть не боялся. На компромиссы с обыденностью не шёл. Он культивировал экстремальность и катастрофизм.
Алла Демидова когда-то сравнила самого актёра со взлетающим самолётом, который невозможно удержать руками, хотя знаешь, что он разобьётся.
Ушёл Высоцкий, энергетику серьёзного вопля продолжил нести российский тяжёлый рок.
Раннее постсоветское время с эйфорией использовало право не улыбаться, когда улыбаться нечему.
Появилась принципиально неулыбчивая Земфира.
Появилось и новое телевидение. Там вошли в обиход улыбки вежливости, улыбки корректности, которые выражают знание законов масс-медиа и профессиональное владение собой в телеэфире. Ничего личного и ничего "партейного". Так шоуменски ни о чём умел улыбаться Владислав Листьев.
Демонстративно формальной, словно существующей автономно от ведущей, была улыбка Татьяны Митковой, сообщавшей новости с передовой политической борьбы.
Но и на телевидении возник полюс мимической сумрачности. Жёсткий взгляд и стальной блеск глаз отличали Александра Невзорова в "600 секундах".
Он если и улыбался краем лицевого мускула, то так, чтобы у телезрителей холодели спины от ужаса. Он тоже, прямо почти как Высоцкий, любил экстремальность и обожал катастрофизм. Только воплощал эти пристрастия не в искусстве, а на опасных просторах телевидения, где так сложно не упрощать смыслы, где так легко утратить ощущение правды, реальности, допустимой меры.
Трагические образы Владимира Высоцкого продолжали брезжить в сознании культуры. Они оставались эталоном эмоциональной высоты, высшей точкой душевной вертикали.
Но законы рыночного мира требовали бесконечной популяризации всего, в том числе самого высокого и сокровенного. Трагическое содержание, напротив, отменялось новой шкалой ценностей, где первые места заняли наслаждение, личное преуспеяние, наконец, выживание.
Начиная с перестроечного и постперестроечного времени сумеречные физиономии неуклонно множатся, культивируются, тиражируются.
За право обладания радостями жизни и самой жизнью хозяева этих лиц ведут смертельную схватку — и тем самым оправдывают свою мрачность.
Фабрика криминального сериала уже не первое десятилетие удерживает моду на небритые, нехоленые лица. Они не могут нормально улыбаться, они могут только усмехаться, критически искривляться, деревенеть и стервенеть в попытках что-то отстоять и за кого-то отомстить. Эти конвульсии лица и почти мимическую клоунаду временами закатывает Глухарёв-Максим Аверин.
А нового Глеба Жеглова, между тем, не появляется. Хотя в "Глухаре", к примеру, даже воспроизводится расклад главных героев на того, который постарше и поматерее, и на того, который помоложе и понаивнее.
В "Ликвидации" Владимир Машков и вовсе сыграл одесского начальника угро Давида Гоцмана с оглядкой на Жеглова. Но чтобы возникло самое слабое приближение к уровню "Места встречи…" режиссёрам и сценаристам надо очень серьёзно относиться к проблемам нравственности.
А серьёзных рефлексий о нравственности и целях жизни наша эпоха не вмещает — во всяком случае, в популярной культуре.
Нынешняя годовщина смерти Высоцкого проходит на телевидении в обрамлении новейших типов сумрачности и улыбчивости. Сумрачности заметно меньше, её содержание выхолащивается, она превращается в маску non-smile.
Самая радикальная маска регулярно воспроизводится Сергеем Селиным. С тех пор, как вечный Дукалис-Селин в "Ментах" и "Литейном" сильно сбросил вес, его лицо есть концентрация кинопредставлений о хорошем человеке с автоматом.
Лицо такого героя не должно быть гладким и благообразным. Его должны бороздить живописные морщины — как топографическая карта жестокого жизненного опыта, как документ, удостоверяющий право вершить личный суд над неправыми и виноватыми.
Лицо Селина играет то, чего не в состоянии вместить типовой сюжет, диалоги, голос и глаза. В этом лице живёт и память о том, что когда-то, когда криминальные фильмы были штучными произведениями, в них могли полноценно существовать прекрасные актёры, каковым был и Высоцкий.
Сумрачность лиц в криминальных телекартинах конкурирует со щедрой светлотой и улыбчивостью нехудожественных форматов. Там бьются за те радости жизни, которые здесь, в мирных форматах, не нуждаются в защите и переделе. Если переделы и происходят, то в закадровой реальности.
Все ведущие утреннего эфира всех каналов излучают счастье — ура, им есть, где светиться. Все лица в рекламе, пьющие добрые напитки и чистящие зубы добрыми пастами, светятся добродушием. Вечерами радостные оскалы Александра Малахова, Максима Галкина, Дмитрия Диброва — как неслышные гимны в честь собственной звёздности.
Но безудержной эйфорийной улыбчивости современное телевидение не приемлет. Нечего швыряться эмоциями, надо брать долгое дыхание — другой атмосферы на ТВ ещё долго не приготовят.
Самая типичная и тактически правильная улыбка — у Ивана Урганта, который может быть сочтён визитной карточкой медийности начала десятых годов XXI века.
Правильный овальчик лица, почти детские пухловатые щёки и невинная складочка губ кокетливо оттеняются лёгкой небритостью — он хотя и маленький, но вполне успешный, потому что стильный.
Он молодой, но всё-таки вполне взрослый звёздный мальчик. Никаких острых углов, никакой внешней брутальности, никаких резких движений и выражений.
Ещё недавно все пустоты в медийном пространстве заполнял Гоша Куценко. Но он указывал на примат брутальной криминальной эстетики, он весь состоял из контрастов — бритый шар черепа и острый нос, жёсткий подбородок и нестоличный говор, готовность быть главным антикиллером и рекламировать сотовые телефоны.
Теперь пустоты медийности заполняет идеально обтекаемый Ургант, чем-то похожий на бутылочку со спасительным для иммунитета напитком.
Он острит, сохраняя серьёзный вид, — и не прокалывается. Он общается с гостями студии в "Прожекторперисхилтон" уважительно — но забавно, игрово, прикольно.
Если Селин, как и Гоша Куценко, знаменуют выходящую в тираж Крутизну, Ургант являет собой набирающий силу Прикол. Этот не острый и не колкий прикол движется на мягких лапах, осторожно, вкрадчиво.
Даже словечко драйв ушло с магистрали медийности, потому что оно предполагает нечто громкое, звонкое, пружинистое, демонстративное.
Ургант культивирует прикол без видимого драйва, без предупреждающего смеха, без намекающей мимики, без показного кайфа по поводу себя, но с маской невозмутимости, покоя и благодушия.
Он излучает иллюзию общественной гармонии, как некогда это делал Олимпийский медвежонок. Но тот был душевным. А Ургант своей демонстративной невозмутимостью табуирует проблему души, душевности и духовности — о них теперь неприлично заикаться.
Своим настроем и сплочённостью вся компания "Прожекторперисхилтон" во главе с Ургантом напоминает пингвинов из "Мадагаскара", которые "докладывают обстановку", "улыбаются и машут".
Ургант улыбается уголками губ и машет ресницами. Он не делится своей улыбкой. Он делится мнимой серьёзностью, лишённой драматизма и боли.
Его медийный образ изымает из обихода проблему смерти, страданий и даже любви. Какие такие могут быть серьёзные чувства и какой такой финал бытия, когда столько ещё не откомментировано, не осмеяно, не отрекламировано?
В годовщину смерти Высоцкого медийный символ современности на экране не появляется. Он словно уступает на краткое время место тому, чему на самом деле места нет на нашем ТВ и в нашем мире.
Только в виде тени прошлого, в виде любимого альбома, драгоценных записей, личного переживания — виртуальности.
В эпоху Урганта и обоих Малаховых остаётся делать эфир из попыток вспоминать и пытаться понять, как был возможен Владимир Высоцкий.
Статья опубликована на сайте "Частный корреспондент"