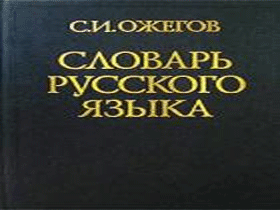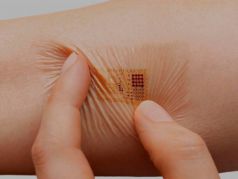Лев Рубинштейн: В общем, заложен. Интеллектуал, особенно если он художник (в широком смысле слова), априори существо безответственное, и бунтарство ему, что называется, "позволено" природой. Степень радикальности в выстраивании альтернативных стратегий по отношению к мейнстриму, в том числе и политическому, — это просто вопрос темперамента каждого отдельно взятого художника. Я лично как автор сложился в 70-е годы в неявном – не социальном, а эстетическом – противостоянии советскому официозу. Но в атмосфере тотальной идеологизации это автоматически означало сопротивление политическому режиму. Мы с друзьями декларативно чуждались политики, не смыкались с диссидентским движением, но власти нас воспринимали как диссидентов. Так что мой личный опыт был вынужденно радикальным. Всякий жест воспринимался либо "за", либо "против". И все, что не "за", было "против".
Панов: Остается ли этот опыт актуальным сегодня, в эпоху объявленного сверху либерализма?
Рубинштейн: Нынче ситуация гораздо сложнее — тем и интереснее. Происходит некоторая подмена: власти, осуществляя последовательные репрессивные действия в отношении любого инакомыслия, заговорили языком либерально-экономическим и даже чуть ли не правозащитным. И эта подмена вынуждает оппозицию искать новый язык. В интеллектуальной среде начинаются страшные шатания — непонятно, чему противостоять. Появление таких химерических созданий, как НБП (не то леваки, не то фашисты), — яркий тому пример. Я бы говорил не об оппозиционности (я по природе не революционер), но об альтернативности. А выстраивание альтернатив всегда актуально. Даже если бы режим нас полностью устраивал, что в принципе невозможно. Повторяю: интеллектуал — это критик всяческого мейнстрима.
Панов: И могли бы вы описать нынешний мейнстрим, прежде всего политический?
Рубинштейн: У нас относительно мягкая, но авторитарная ситуация. Мейнстримный язык — тот, на котором говорит с нами власть, — начинает на глазах затвердевать. В нем все больше основательно подзабытых державно-патриотических конструктов, которые человеку с моим опытом режут слух. Но в целом ситуация пока остается хаотичной. Я ощущаю языковую кашу, напоминающую 20-е годы с их разрушением сословных перегородок (эту атмосферу блестяще передал Зощенко). Разные языки примериваются к тому, чтобы стать властными. Философы, близкие к власти, постоянно говорят о том, что надо вырабатывать новый политический язык. Но это смешно: язык не создается извне.
Панов: Все эти искусственные попытки придумать национальную идею на закрытом семинаре в Подмосковье и создать властный дискурс в кремлевском кабинете— не суть ли признаки слабости? Равно как и использование гарантом конституции жаргона типа "мочить в сортире"?
Рубинштейн: Безусловно, это симптомы идейной импотенции. У нынешней власти нет никакой идеи, кроме того, что власть должна быть властью. К власти пришли полублатные ребята — те, которые в моем детстве назывались шпаной, — и они говорят на приблатненном языке. Не на жестком блатном, а именно приблатненном. Это воры не в законе. За нынешней риторикой власти не стоит буквально ничего. В то время как эти безъязыкие корчи происходят на фоне тонущих подлодок, взрывающихся домов, проигранной войны и т. д. Надо поддерживать вид убежденного человека, но власть ощущает острый дефицит убеждений.
Панов: А на каком языке, как вам кажется, должны говорить альтернативная культура, оппозиция?
Рубинштейн: Мне кажется, на таком, на каком говорим мы с тобой.
Текст также опубликован в газете "Объединенный гражданский фронт"